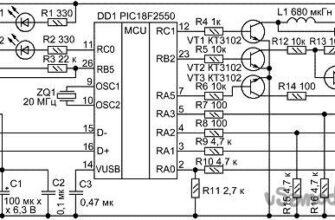Достоевский Ф. М. — Белые ночи
— Дайте мне руку, — сказал я моей незнакомке, — и он не посмеет больше к нам приставать.
Она молча подала мне свою руку, еще дрожавшую от волнения и испуга. О незваный господин! как я благословлял тебя в эту минуту! Я мельком взглянул на нее: она была премиленькая и брюнетка — я угадал; на ее черных ресницах еще блестели слезинки недавнего испуга или прежнего горя, — не знаю. Но на губах уже сверкала улыбка. Она тоже взглянула на меня украдкой, слегка покраснела и потупилась.
— Вот видите, зачем же вы тогда отогнали меня? Если б я был тут, ничего бы не случилось.
— Но я вас не знала: я думала, что вы тоже.
— А разве вы теперь меня знаете?
— Немножко. Вот, например, отчего вы дрожите?
— О, вы угадали с первого раза! — отвечал я в восторге, что моя девушка умница: это при красоте никогда не мешает. — Да, вы с первого взгляда угадали, с кем имеете дело. Точно, я робок с женщинами, я в волненье, не спорю, не меньше, как были вы минуту назад, когда этот господин испугал вас. Я в каком-то испуге теперь. Точно сон, а я даже и во сне не гадал, что когда-нибудь буду говорить хоть с какой-нибудь женщиной.
— Да, если рука моя дрожит, то это оттого, что никогда еще ее не обхватывала такая хорошенькая маленькая ручка, как ваша. Я совсем отвык от женщин; то есть я к ним и не привыкал никогда; я ведь один. Я даже не знаю, как говорить с ними. Вот и теперь не знаю — не сказал ли вам какой-нибудь глупости? Скажите мне прямо; предупреждаю вас, я не обидчив.
— Нет, ничего, ничего; напротив. И если уже вы требуете, чтоб я была откровенна, так я вам скажу, что женщинам нравится такая робость; а если вы хотите знать больше, то и мне она тоже нравится, и я не отгоню вас от себя до самого дома.
— Вы сделаете со мной, — начал я, задыхаясь от восторга, — что я тотчас же перестану робеть, и тогда — прощай все мои средства.
— Средства? какие средства, к чему? вот это уж дурно.
— Виноват, не буду, у меня с языка сорвалось; но как же вы хотите, чтоб в такую минуту не было желания.
— Понравиться, что ли?
— Ну да; да будьте, ради бога, будьте добры. Посудите, кто я! Ведь вот уж мне двадцать шесть лет, а я никого никогда не видал. Ну, как же я могу хорошо говорить, ловко и кстати? Вам же будет выгоднее, когда все будет открыто, наружу. Я не умею молчать, когда сердце во мне говорит. Ну, да все равно. Поверите ли, ни одной женщины, никогда, никогда! Никакого знакомства! и только мечтаю каждый день, что наконец-то когда-нибудь я встречу кого-нибудь. Ах, если б вы знали, сколько раз я был влюблен таким образом.
— Но как же, в кого же?
— Да ни в кого, в идеал, в ту, которая приснится во сне. Я создаю в мечтах целые романы. О, вы меня не знаете! Правда, нельзя же без того, я встречал двух-трех женщин, но какие они женщины? это все такие хозяйки, что. Но я вас насмешу, я расскажу вам, что несколько раз думал заговорить, так, запросто, с какой-нибудь аристократкой на улице, разумеется, когда она одна; заговорить, конечно, робко, почтительно, страстно; сказать, что погибаю один, чтоб она не отгоняла меня, что нет средства узнать хоть какую-нибудь женщину; внушить ей, что даже в обязанностях женщины не отвергнуть робкой мольбы такого несчастного человека, как я. Что, наконец, и все, чего я требую, состоит в том только, чтоб сказать мне какие-нибудь два слова братские, с участием, не отогнать меня с первого шага, поверить мне на слово, выслушать, что я буду говорить, посмеяться надо мной, если угодно, обнадежить меня, сказать мне два слова, только два слова, потом пусть хоть мы с ней никогда не встречаемся. Но вы смеетесь. Впрочем, я для того и говорю.
— Не досадуйте; я смеюсь тому, что вы сами себе враг, и если б вы попробовали, то вам бы и удалось, может быть, хоть бы и на улице дело было; чем проще, тем лучше. Ни одна добрая женщина, если только она не глупа или особенно не сердита на что-нибудь в ту минуту, не решилась бы отослать вас без этих двух слов, которых вы так робко вымаливаете. Впрочем, что я! конечно, приняла бы вас за сумасшедшего. Я ведь судила по себе. Сама-то я много знаю, как люди на свете живут!
— О, благодарю вас, — закричал я, — вы не знаете, что вы для меня теперь сделали!
— Хорошо, хорошо! Но скажите мне, почему вы узнали, что я такая женщина, с которой. ну, которую вы считали достойной. внимания и дружбы. одним словом, не хозяйка, как вы называете. Почему вы решились подойти ко мне?
— Почему? почему? Но вы были одни, тот господин был слишком смел, теперь ночь: согласитесь сами, что это обязанность.
— Нет, нет, еще прежде, там, на той стороне. Ведь вы хотели же подойти ко мне?
— Там, на той стороне? Но я, право, не знаю, как отвечать; я боюсь. Знаете ли, я сегодня был счастлив; я шел, пел; я был за городом; со мной еще никогда не бывало таких счастливых минут. Вы. мне, может быть, показалось. Ну, простите меня, если я напомню: мне показалось, что вы плакали, и я. я не мог слышать это. у меня стеснилось сердце. О, боже мой! Ну, да неужели же я не мог потосковать об вас? Неужели же был грех почувствовать к вам братское сострадание. Извините, я сказал сострадание. Ну, да, одним словом, неужели я мог вас обидеть тем, что невольно вздумалось мне к вам подойти.
— Оставьте, довольно, не говорите. — сказала девушка, потупившись и сжав мою руку. — Я сама виновата, что заговорила об этом; но я рада, что не ошиблась в вас. но вот уже я дома; мне нужно сюда, в переулок; тут два шага. Прощайте, благодарю вас.
— Так неужели же, неужели мы больше никогда не увидимся. Неужели это так и останется?
— Видите ли, — сказала, смеясь, девушка, — вы хотели сначала только двух слов, а теперь. Но, впрочем, я вам ничего не скажу. Может быть, встретимся.
— Я приду сюда завтра, — сказал я. — О, простите меня, я уже требую.
— Да, вы нетерпеливы. вы почти требуете.
— Послушайте, послушайте! — прервал я ее. — Простите, если я вам скажу опять что-нибудь такое. Но вот что: я не могу не прийти сюда завтра. Я мечтатель; у меня так мало действительной жизни, что я такие минуты, как эту, как теперь, считаю так редко, что не могу не повторять этих минут в мечтаньях. Я промечтаю об вас целую ночь, целую неделю, весь год. Я непременно приду сюда завтра, именно сюда, на это же место, именно в этот час, и буду счастлив, припоминая вчерашнее. Уж это место мне мило. У меня уже есть такие два-три места в Петербурге. Я даже один раз заплакал от воспоминанья, как вы. Почем знать, может быть, и вы, тому назад десять минут, плакали от воспоминанья. Но простите меня, я опять забылся; вы, может быть, когда-нибудь были здесь особенно счастливы.
— Хорошо, — сказала девушка, — я, пожалуй, приду сюда завтра, тоже в десять часов. Вижу, что я уже не могу вам запретить. Вот в чем дело, мне нужно быть здесь; не подумайте, чтоб я вам назначала свидание; я предупреждаю вас, мне нужно быть здесь для себя. Но вот. ну, уж я вам прямо скажу: это будет ничего, если и вы придете; во-первых, могут быть опять неприятности, как сегодня, но это в сторону. одним словом, мне просто хотелось бы вас видеть. чтоб сказать вам два слова. Только, видите ли, вы не осудите меня теперь? не подумайте, что я так легко назначаю свидания. Я бы и назначила, если б. Но пусть это будет моя тайна! Только вперед уговор.
— Уговор! говорите, скажите, скажите все заране; я на все согласен, на все готов, — вскричал я в восторге, — я отвечаю за себя — буду послушен, почтителен. вы меня знаете.
— Именно оттого, что знаю вас, и приглашаю вас завтра, — сказала смеясь девушка. — Я вас совершенно знаю. Но, смотрите, приходите с условием; во-первых (только будьте добры, исполните, что я попрошу, — видите ли, я говорю откровенно), не влюбляйтесь в меня. Это нельзя, уверяю вас. На дружбу я готова, вот вам рука моя. А влюбиться нельзя, прошу вас!
— Клянусь вам, — закричал я, схватив ее ручку.
— Полноте, не клянитесь, я ведь знаю, вы способны вспыхнуть как порох. Не осуждайте меня, если я так говорю. Если б вы знали. У меня тоже никого нет, с кем бы мне можно было слово сказать, у кого бы совета спросить. Конечно, не на улице же искать советников, да вы исключение. Я вас так знаю, как будто уже мы двадцать лет были друзьями. Не правда ли, вы не измените?
— Увидите. только я не знаю, как уж я доживу хотя сутки.
— Спите покрепче; доброй ночи — и помните, что я вам уже вверилась. Но вы так хорошо воскликнули давеча: неужели ж давать отчет в каждом чувстве, даже в братском сочувствии! Знаете ли, это было так хорошо сказано, что у меня тотчас же мелькнула мысль довериться вам.
— Ради бога, но в чем? что?
— До завтра. Пусть это будет покамест тайной. Тем лучше для вас; хоть издали будет на роман похоже. Может быть, я вам завтра же скажу, а может быть, нет. Я еще с вами наперед поговорю мы познакомимся лучше.
— О, да я вам завтра же все расскажу про себя! Но что это? точно чудо со мной совершается. Где я, боже мой? Ну, скажите, неужели вы недовольны тем, что не рассердились, как бы сделала другая, не отогнали меня в самом начале? Две минуты, и вы сделали меня навсегда счастливым. Да! счастливым; почем знать, может быть, вы меня с собой помирили, разрешили мои сомнения. Может быть, на меня находят такие минуты. Ну, да я вам завтра все расскажу, вы все узнаете, все.
— Хорошо, принимаю; вы и начнете.
И мы расстались. Я ходил всю ночь; я не мог решиться воротиться домой. Я был так счастлив. до завтра!
— Ну, вот и дожили! — сказала она мне, смеясь и пожимая мне обе руки.
— Я здесь уже два часа; вы не знаете, что было со мной целый день!
— Знаю, знаю. но к делу. Знаете, зачем я пришла? Ведь не вздор болтать, как вчера. Вот что: нам нужно вперед умней поступать. Я обо всем этом вчера долго думала.
— В чем же, в чем быть умнее? С моей стороны, я готов; но, право, в жизнь не случалось со мною ничего умнее, как теперь.
— В самом деле? Во-первых, прошу вас, не жмите так моих рук; во-вторых, объявляю вам, что я об вас сегодня долго раздумывала.
— Ну, и чем же кончилось?
— Чем кончилось? Кончилось тем, что нужно все снова начать, потому что в заключение всего я решила сегодня, что вы еще мне совсем неизвестны, что я вчера поступила как ребенок, как девочка, и, разумеется, вышло так, что всему виновато мое доброе сердце, то есть я похвалила себя, как и всегда кончается, когда мы начнем свое разбирать. И потому, чтоб поправить ошибку, я решила разузнать об вас самым подробнейшим образом. Но так как разузнавать о вас не у кого, то вы и должны мне сами все рассказать, всю подноготную. Ну, что вы за человек? Поскорее — начинайте же, рассказывайте свою историю.
— Историю! — закричал я, испугавшись, — историю! Но кто вам сказал, что у меня есть моя история? у меня нет истории.
Источник
Он молча подал мне свою руку
Изменить размер шрифта — +
| Она шла как ветер, но колыхавшийся господин настигал, настиг, девушка вскрикнула – и… я благословляю судьбу за превосходную сучковатую палку, которая случилась на этот раз в моей правой руке. Я мигом очутился на той стороне тротуара, мигом незваный господин понял, в чем дело, принял в соображение неотразимый резон, замолчал, отстал и, только когда уже мы были очень далеко, протестовал против меня в довольно энергических терминах. Но до нас едва долетели слова его. – Дайте мне руку, – сказал я моей незнакомке, – и он не посмеет больше к нам приставать. Она молча подала мне свою руку, еще дрожавшую от волнения и испуга. О, незваный господин! как я благословлял тебя в эту минуту! Я мельком взглянул на нее: она была премиленькая и брюнетка – я угадал; на ее черных ресницах еще блестели слезинки недавнего испуга или прежнего горя, – не знаю. Но на губах уже сверкала улыбка. Она тоже взглянула на меня украдкой, слегка покраснела и потупилась. – Вот видите, зачем же вы тогда отогнали меня? Если б я был тут, ничего бы не случилось… – Но я вас не знала: я думала, что вы тоже… – А разве вы теперь меня знаете? – Немножко. Вот, например, отчего вы дрожите? – О, вы угадали с первого раза! – отвечал я в восторге, что моя девушка умница: это при красоте никогда не мешает. – Да, вы с первого взгляда угадали, с кем имеете дело. Точно, я робок с женщинами, я в волненье, не спорю, не меньше, как были вы минуту назад, когда этот господин испугал вас… Я в каком‑то испуге теперь. Точно сон, а я даже и во сне не гадал, что когда‑нибудь буду говорить хоть с какой‑нибудь женщиной. – Да, если рука моя дрожит, то это оттого, что никогда еще ее не обхватывала такая хорошенькая маленькая ручка, как ваша. Я совсем отвык от женщин; то есть я к ним и не привыкал никогда; я ведь один… Я даже не знаю, как говорить с ними. Вот и теперь не знаю – не сказал ли вам какой‑нибудь глупости? Скажите мне прямо; предупреждаю вас, я не обидчив… – Нет, ничего, ничего; напротив. И если уже вы требуете, чтоб я была откровенна, так я вам скажу, что женщинам нравится такая робость; а если вы хотите знать больше, то и мне она тоже нравится, и я не отгоню вас от себя до самого дома. – Вы сделаете со мной, – начал я, задыхаясь от восторга, – что я тотчас же перестану робеть и тогда – прощай все мои средства. – Средства? какие средства, к чему? вот это уж дурно. – Виноват, не буду, у меня с языка сорвалось; но как же вы хотите, чтоб в такую минуту не было желания… – Понравиться, что ли? – Ну да; да будьте, ради бога, будьте добры. Посудите, кто я! Ведь вот уж мне двадцать шесть лет, а я никого никогда не видал. Ну, как же я могу хорошо говорить, ловко и кстати? Вам же будет выгоднее, когда все будет открыто, наружу… Я не умею молчать, когда сердце во мне говорит. Ну, да все равно… Поверите ли, ни одной женщины, никогда, никогда! Никакого знакомства! и только мечтаю каждый день, что наконец‑то когда‑нибудь я встречу кого‑нибудь. Ах, если б вы знали, сколько раз я был влюблен таким образом. Источник ЧИТАТЬ КНИГУ ОНЛАЙН: Том 2. Повести и рассказы 1848-1852НАСТРОЙКИ.СОДЕРЖАНИЕ.СОДЕРЖАНИЕФедор Михайлович Достоевский Собрание сочинений в пятнадцати томах Том 2. Повести и рассказы 1848-1852 Еще недавно я никак не мог себе представить петербургского жителя иначе как в халате, в колпаке, в плотно закупоренной комнате и с непременною обязанностию принимать что-нибудь через два часа по столовой ложке. Конечно, не всё же были больные. Иным болеть запрещали обязанности. Других отстаивала богатырская их натура. Но вот наконец сияет солнце, и эта новость бесспорно стоит всякой другой. Выздоравливающий колеблется; нерешительно снимает колпак, в раздумьи приводит в порядок наружность и наконец соглашается пойти походить, разумеется во всем вооружении, в фуфайке, в шубе, в галошах. Приятным изумлением поражает его теплота воздуха, какая-то праздничность уличной толпы, оглушающий шум экипажей по обнаженной мостовой. Наконец на Невском проспекте выздоравливающий глотает новую пыль! Сердце его начинает биться, и что-то вроде улыбки кривит его губы, доселе вопросительно и недоверчиво сжатые. Первая петербургская пыль после потопа грязи и чего-то очень мокрого в воздухе, конечно, не уступает в сладости древнему дыму отечественных очагов * , и гуляющий, с лица которого спадает недоверчивость, решается наконец насладиться весною. Вообще в петербургском жителе, решающемся насладиться весною, есть что-то такое добродушное и наивное, что как-то нельзя не разделить его радости. Он даже, при встрече с приятелем, забывает свой обыденный вопрос: что нового? и заменяет его другим, гораздо более интересным: а каков денек? А уж известно, что после погоды, особенно когда она дурная, самый обидный вопрос в Петербурге — что нового? Я часто замечал, что, когда два петербургских приятеля сойдутся где-нибудь между собою и, поприветствовав обоюдно друг друга, спросят в один голос — что нового? — то какое-то пронзающее уныние слышится в их голосах, какой бы интонацией голоса ни начался разговор. Действительно, полная безнадежность налегла на этот петербургский вопрос. Но всего оскорбительнее то, что часто спрашивает человек совсем равнодушный, коренной петербуржец, знающий совершенно обычаи, знающий заранее, что ему ничего не ответят, что нет нового, что он уже, без малого или с небольшим, тысячу раз предлагал этот вопрос, совершенно безуспешно и потому давно успокоился — но все-таки спрашивает, и как будто интересуется, как будто какое-то приличие заставляет его тоже участвовать в чем-то общественном и иметь публичные интересы. Но публичных интересов… то есть публичные интересы у нас есть, не спорим. Мы все пламенно любим отечество, любим наш родной Петербург, любим поиграть, коль случится: одним словом, много публичных интересов. Но у нас более в употреблении кружки. Даже известно, что весь Петербург есть не что иное, как собрание огромного числа маленьких кружков, у которых у каждого свой устав, свое приличие, свой закон, своя логика и свой оракул. Это, некоторым образом, произведенье нашего национального характера, который еще немного дичится общественной жизни и смотрит домой. К тому же для общественной жизни нужно искусство, нужно подготовить так много условий — одним словом, дома лучше. Тут натуральнее, не нужно искусства, покойнее. В кружке вам бойко ответят на вопрос — что нового? Вопрос немедленно получает частный смысл, и вам отвечают или сплетнею, или зевком, или тем, от чего вы сами цинически и патриархально зевнете. В кружке можно самым безмятежным и сладостным образом дотянуть свою полезную жизнь, между зевком и сплетнею, до той самой эпохи, когда грипп или гнилая горячка посетит ваш домашний очаг и вы проститесь с ним стоически, равнодушно и в счастливом неведении того, как это всё было с вами доселе и для чего так всё было? Умрешь в потемках, в сумерки, в слезливый без просвету день, в полном недоумении о том, как же это всё так устроилось, что вот жил же (кажется, жил), достиг кой-чего, и вот теперь так почему-то непременно понадобилось оставить сей приятный и безмятежный мир и переселиться в лучший. В иных кружках, впрочем, сильно толкуют о деле; с жаром собирается несколько образованных и благонамеренных людей, с ожесточением изгоняются все невинные удовольствия, как-то сплетни и преферанс (разумеется, не в литературных кружках), и с непонятным увлечением толкуется об разных важных материях. Наконец потолковав, поговорив, решив несколько общеполезных вопросов и убедив друг друга во всем, весь кружок впадает в какое-то раздражение, в какое-то неприятное расслабление. Наконец все друг на друга сердятся, говорится несколько резких истин, обнаруживается несколько резких и размашистых личностей и — кончается тем, что всё расползается, успокоивается, набирается крепкого житейского разума и мало-помалу сбивается в кружки первого вышеописанного свойства. Оно, конечно, приятно так жить; но наконец станет досадно, обидно досадно. Мне, например, потому досадно на наш патриархальный кружок, что в нем всегда образуется и выделывается один господин, самого несносного свойства. Этого господина вы очень хорошо знаете, господа. Имя ему легион. Это господин, имеющий доброе сердце и не имеющий ничего, кроме доброго сердца. Как будто какая диковинка — иметь в наше время доброе сердце! Как будто, наконец, так нужно иметь его, это вечное доброе сердце! Этот господин, имеющий такое прекрасное качество, выступает в свет в полной уверенности, что его доброго сердца совершенно достанет ему, чтоб быть навсегда довольным и счастливым. Он так уверен в успехе, что пренебрег всяким другим средством, запасаясь в житейскую дорогу. Он, например, ни в чем не знает ни узды, ни удержу. У него всё нараспашку, всё откровенно. Этот человек чрезвычайно склонен вдруг полюбить, подружиться и совершенно уверен, что все его тотчас же полюбят взаимно, собственно за один тот факт, что он всех полюбил. Его доброму сердцу никогда и не снилось, что мало полюбить горячо, что нужно еще обладать искусством заставить себя полюбить, без чего всё пропало, без чего жизнь не в жизнь, и его любящему сердцу, и тому несчастному, которого оно наивно избрало предметом своей неудержимой привязанности. Если этот человек заведет себе друга, то друг у него тотчас же обращается в домашнюю мебель, во что-то вроде плевательницы. Всё, всё, какая ни есть внутри дрянь, как говорит Гоголь * , всё летит с языка в дружеское сердце. Друг обязан всё слушать и всему сочувствовать. Обманут ли этот господин в жизни, обманут ли любовницей, проигрался ли в карты, немедленно, как медведь, ломится он, непрошеный, в дружескую душу и изливает в нее без удержу все свои пустяки, часто вовсе не замечая того, что у друга у самого лоб трещит от собственной заботы, что у него дети померли, что случилось несчастье с женой, что, наконец, он сам, этот господин с своим любящим сердцем, надоел как хрен своему другу и что, наконец, деликатным образом ему намекают о превосходной погоде, которою можно воспользоваться для немедленной одинокой прогулки. Полюбит ли он женщину, он оскорбит ее тысячу раз своим натуральным характером, прежде чем заметит это в своем любящем сердце; прежде чем заметит (если только он способен заметить), что эта женщина чахнет от любви его, что, наконец, ей гадко, противно быть с ним и что он отравил всё существование ее благодаря муромским наклонностям своего любящего сердца. Да! только в уединении, в углу, и более всего в кружке, производится это прекрасное произведение натуры, этот образец нашего сырого материала, как говорят американцы, на который не пошло ни капли искусства, в котором всё натурально, всё чистый самородок, без узды и без удержу. Забывает да и не подозревает такой человек в своей полной невинности, что жизнь — целое искусство, что жить значит сделать художественное произведение из самого себя; что только при обобщенных интересах, в сочувствии к массе общества и к ее прямым непосредственным требованиям, а не в дремоте, не в равнодушии, от которого распадается масса, не в уединении может ошлифоваться в драгоценный, в неподдельный блестящий алмаз его клад, его капитал, его доброе сердце! Господи боже мой! Куда это девались старинные злодеи старинных мелодрам и романов, господа? Как это было приятно, когда они жили на свете! И потому приятно, что сейчас, тут же под боком, был самый Источник |